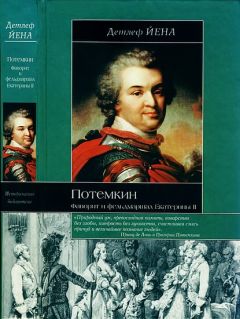Роман Шмараков - К отцу своему, к жнецам
22
3 февраля<Без адресата>
Прекрасно я все совершил! Готовился прилежно, радовался своей изобретательности, истощил ее досуха, предусмотрел все уловки врага; нет такого, о чем бы я забыл, чем бы пренебрег. Кто же не похвалится, придя с охоты? кто не расскажет о своих деяниях, не выставит добытого на обозрение? Ну же, спроси: успел ли я в моих затеях? открыл ли я? увидел ли, дознался? Подлинно, не без добычи я вернулся, и такой, которую лучше бы мне никогда не встречать. Знаю теперь несомнительно, что этот человек, в ночи бродящий, людей страшащий, с незнаемым обликом, слывущий призраком, – я, я сам, один я, никто, кроме меня! Что это со мною? Подобно как Даниил, премудрый в юности своей, так и я вышел к вечеру сеятелем пепла, и благой плод из него возрос, насытивший меня познанием так, что не хочу больше никакого другого. Подобно как Бел, чтимый идол вавилонян, так имел я на всякий день двенадцать мер муки, то есть множество народа, бывшего во власти моей и приступавшего ко мне с благоговением, и сорок овец, то есть дерзостных движений моей души, о коих я пекся с прилежанием, имею теперь и шесть полных кувшинов вина, то есть праведной казни Божией, пришедшей без промедления. Подобно как Бел, славный идол вавилонян, так и я довольно ел и пил каждый день, чтобы почитаться живым, но от Бога живого зависит избрать человека, да обличит невидимое мое и на кровлях поведает творимое во тьме моей. Подобно как царь, запечатавший двери своим перстнем, так я днем хранил святость своего сана, налагая печать пристойности на уста свои и оттиск воздержности – на все члены свои, но ночью я находил из себя тайную дорогу, дабы рыскать, как зверь, пока не скажу сам себе: «Вот пол, посмотри, чьи следы на нем?» И подобно как храм, вседневно посещаемый несметной толпой народа, так и я буду в почтении, пока не раскроется скверна моя, живущая всякую ночь, а после сего слава моя совершенно отнимется от меня. Кто скажет: «Велик ты, Бел, и нет в тебе никакого лукавства»? Сам себя я поймал, сам себя обнаружил, во тьме странствующего, сам себя уличил, сам привел к своему судилищу! Я Даниил, открывающий идольские таинства в ночи, и я же идол, обличаемый и поругаемый от пророка; я царь негодующий, и я Даниил доказывающий; я царь, говорящий: «вот, он ест и пьет: разве он не живой?», и я царь, предающий Бела во власть Даниилу; я жрец, посмевающийся царской печати на дверях, и я жрец, следами своих стоп выдающий свое лукавство; я идол рукотворный, истребляющий овец, и я тот, кого Бог избрал обличить его ничтожество; я царский гнев, я и царское благочестие, я храм прославленный, и я храм презренный и оставленный, медь у меня снаружи и скудель внутри. Господи, Господи, просвети мои глаза, загляни в мою клеть: чьи там следы? подлинно ли человеческие?
23
Досточтимому во Христе господину Петру, епископу Остийскому, Р., недостойный священник, – благоговейное послушание
Что сладостнее, что желаннее и благотворнее для души, чем стремиться к источникам вод Господних, а достигнув, пребывать подле них неотступно? И что лучше, чем, узнав к ним дорогу, стать вожатаем для других? Божественная страница научает этому, говоря о златых чашах на светильнике кивота, под которыми понимаются мужи образованные, способные вместить слово Божие и подающие другим питие жизнетворное. По наказам Божиим воспламеняют они других на любовь, по заповедям научают на оправдание, по свидетельствам о грядущей жизни возводят к созерцанию вещей небесных, и так, упоевая людей вином духовного ведения, приводят их к забвению мира сего. Не подобает златой чаше содержать воду или муст, от осадка мутный, но лишь вино чистейшее: не подобает благочестивому мужу предаваться мирской науке, которая подразумевается под водой, как у пророка говорится: «Вино твое смешано с водою». Не должно ему иметь попечения о том, что Туллий возвещает в тяжбах, что Платон выискивает в светилах, что Евклид вымеряет в линиях, как Донат различает части речи, – но скорее вступить в клеть винную Священного Писания, где он почерпает силу соображать духовное с духовным.
Посмотрим же на тех, кто, зная и одобряя лучшее, влечется к худшему. Магистр, о магистр, прославленный во вселенной! Подобно скупцу, делающему из своих сундуков гробы для вещей, ты накопляешь в себе бесполезную утварь знаний, которую точат моль и ржа дряхлеющей памяти; подобно кичливому богачу, выставляющему в своем доме драгоценные вещи, ты заставляешь людей гадать, что безрассуднее – твоя ученость или ты сам, потративший жизнь на ее стяжание. Хочешь знать, кто первый начал слагать стихи? – Обратись на себя и подумай, как уладить свою жизнь, ибо ни Орфей, ни Гомер не будут за тебя предстателями, когда она кончится. Хочешь свой век просидеть, глядя на прах, исчерченный геометрией? – Вспомни, что сам в него уйдешь. Хочешь моря измерить и найти исток Нила? – Измерь свою жизнь, сочти, скоро ли ждут тебя общие для смертных труд и болезнь, скажи, не настал ли час обратиться и прийти в разумение истины, утоляющей всякую жажду. Вы, ученики его, полагающие отраду сердца в суетах мира сего, имеющие ковчег веры, но внутри себя терпящие кораблекрушение, бурным криком бичующие воздух, прилежно спорящие о пустяках, поклоняющиеся Присциану и Туллию, Лукану и Персию, богам вашим, – боюсь, как бы в час смертный вам не было сказано: «Где боги твои, на которых ты надеялся? Пусть восстанут и помогут тебе, и в нужде тебя защитят». Вы, вечно ходящие вокруг горы Сеир и не могущие вступить в землю обетования! для вас прелагает Бог реки в кровь, вам дает небо медное и землю железную, когда плотскую мудрость обращает во грех. Вот, ваша суета пересыпает песок меж пальцев, а на вашей мудрости гноятся раны: не умножайте речей кичливых, да отступит старое от уст ваших, ибо Бог, Господь ведения, гнушается заблуждениями языческой философии, которой поклоняетесь вы даже до сего дня, и приемлет во всяком христианине чистоту совести. Боюсь, как бы гордыня не вовлекла тебя в конечное падение и низвержение, ведь пред падением возносится сердце. Берегись, магистр, паче всего берегись гордыни: она – та кровожадная блудница, что в златой чаше Вавилона подает людям дух головокружения; она – Гофолия, искоренившая почти весь род царский; она – проказа на нарыве; она – зверь дубравный, пожирающий войско Авессалома; она – ржавь и моль, снедающая убранство души; она – кладязь смоляной, куда вверглись царь Содомский и царь Гоморрский; она – башня Силоамская, убивающая своих строителей; она – слон в книге Маккавейской, погубивший Елеазара своей громадой. Итак, спустись к совести своей и погляди, есть ли там повод для бахвальства: ведь похвала наша в свидетельстве совести нашей. Думаешь, ангел, бичевавший Иеронима, пред тобою опустит руку? А ведь этот человек, разумом не темнее тебя и образованием не скуднее, сказал, что стихи поэтов – трапеза демонов: но ты, мудрец, на эту трапезу поспешаешь, словно в какое святое место, и от их чаши рвешься напиться, словно от чаши Господней. Лучше бы тебе это бичевание, вразумившее Иеронима, в нынешнем веке стерпеть, чем в грядущем!
Если бы ты, премудрый магистр, рассудил и уразумел, и последнее предвидел, то возлюбил бы ту древнюю философию, которую в ваших школах часто описывают, но нечасто предписывают, именно неустанное помышление о кончине. Тогда стал бы заботой твоей день последний, ибо смерть при дверях, и пяту твою наблюдает, и не отступит, доколе не выроется ров грешнику. Но «народ сей говорит: „Еще не пришло время создать дом Господень“». Что же? будем взвешивать законы Юстиниана, вить и рассекать хитросплетения софизмов, вечно учиться и никогда не преуспевать? Ничуть – но вины свои исповедать, вздыхать о прощении, спасения искать, Бога обретать, доколе дышит день и удлиняются тени.
24
Досточтимому Хильдеберту, епископу Ле-Манскому, Р., смиренный священник ***ский, – спасения в Творце спасения
В ночи я видел: вот, некая жена стоит на берегу моря; в ней я узнал свою душу. Покамест я удивлялся этому видению и размышлял, как это может быть, что я созерцаю ее как нечто отличное от себя, поднялась из морских волн еще одна и пошла по берегу, подбирая раковины и то прикладывая их к уху, то черпая ими из моря, как то в обыкновении у детей. Вид ее и все приметы были таковы, что я, читавший о них в множестве книг, ни минуты не усомнился в том, кто она, и, видя, что эта жена беззаботной походкой близится к моей душе, решил послушать, не будет ли между ними беседы.
Меж тем моя бессмертная часть, молча глядевшая на это приближенье, наконец приветствует встречную таким вопросом: «Разреши мое недоуменье: ты ведь, если не ошибаюсь, та, кто всем всё подает без пристрастия и отнимает без гнева, насмешливая наставница людей, всевластная хозяйка случая? Отчего же ты не примешь какой-нибудь вид, в котором тебя труднее будет узнать? Я думаю, нет для тебя ничего непосильного в перемене обличья». А та, улыбаясь в ответ: «Да, – говорит, – не ошиблась ты, я Фортуна; что же до моего вида, то скрывать его – лишний труд: кто из смертных упредит меня своими предосторожностями? Скорее, узнав меня, поспешат навстречу, дабы выгадать себе что-то на пользу или оградиться от беды: сами же вы, как говорит поэт, делаете меня богиней и помещаете на небе. Но теперь ты мне ответь: что привело тебя в это пустынное место? Мне кажется, ты явилась сюда, чтобы в одиночестве пенять на мое коварство. Скажи все, что думаешь; не удерживай слов, не бойся меня прогневить».